и юбилею Ольги Фёдоровны Берггольц
посвящается
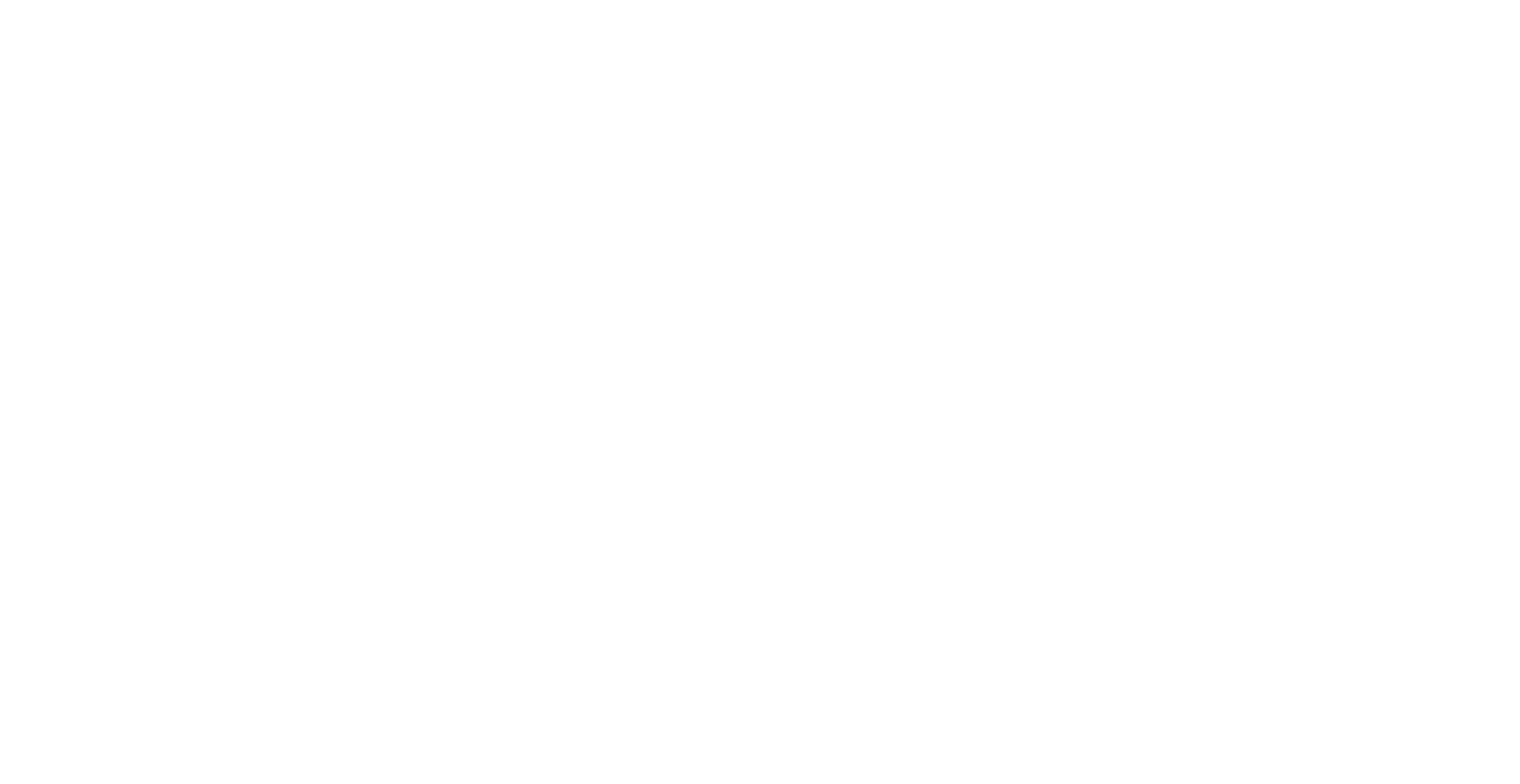
Жизнь и творчество замечательной ленинградской поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц тесно вязано с этим периодом в истории нашей страны, с периодом его самых тяжелых испытаний, с ленинградской блокадой.
Расцвет её творчества связан именно с периодом блокады. Она начала писать раньше, но по-настоящему большим поэтом стала в тот незабываемый период. Ситуация, казалось, был самой неподходящей для поэзии, но это было не так. Её стихи часто звучали по радио в блокадном городе, проникая в душу каждого бойца, каждого жителя.
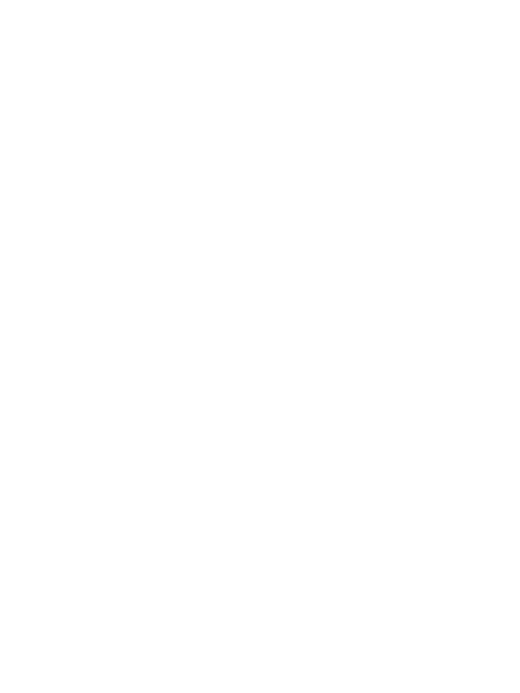
Ольга Фёдоровна Берггольц
Жизнь моя, как и большинства моих современников, счастливо сложилась, что все главные даты её, все, даже самые интимные события, — совпадают с главными событиями жизни нашей страны и народа, и одно переходит в другое. Я родилась в Петербурге за Невской заставой 16 мая 1910 года, именно там начала бить маленькая струйка, которая называется моей жизнью
"
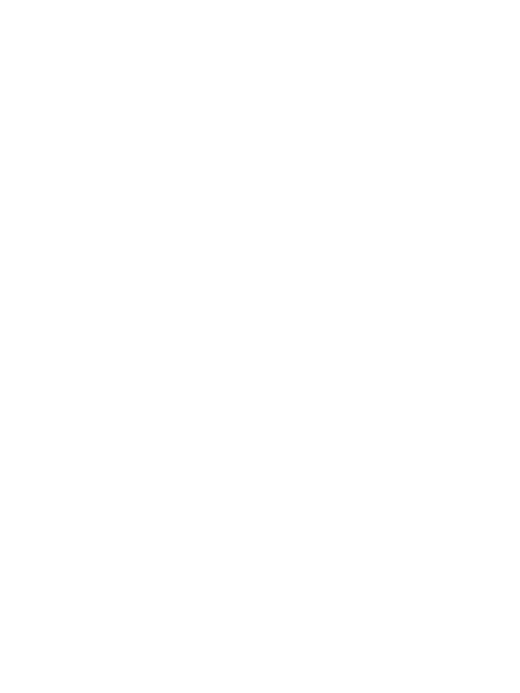
Родители О.Ф. Берггольц
Семья Берггольц была многочиленной и проживала в двухэтажном деревянном доме за Невской заставой, вблизи Шлиссельбургского тракта. Фамилия у Ольги латышская — от деда со стороны отца. Другой дед, со стороны матери, был родом из рязанской деревни.
Отец, Фёдор Христофорович Берггольц, окончил Дерптский университет, служил военно-полевым хирургом. Был он остер не только на скальпель, но и на язык, обладал молниеносным чувством юмора, а мама, Мария Тимофеевна Грустилина, вполне оправдывая свою фамилию, находила утешение в поэзии и детям передала любовь к ней.
Невская застава, Невская застава! Ночи, полные багровых зарев с Чугунного завода. Первая любовь моя. И то, что непередаваемо и невосполнимо… Зачем я не осталась там?
Заветной мечтой моей матери было, чтоб мы — я и моя сестра, — вырастая, становились все больше похожими на «тургеневских» девушек. Нет, «тургеневской» девушки из меня решительно не получилось
"
Ольга Берггольц и Борис Корнилов — поэты, участники группы «Смена» вместе учились на Высших государственных курсах искусствоведения при Институте истории искусств. В 1928 году Корнилов и Берггольц вступили в брак, котором родилась дочь Ирина, и который оказался недолговечным — они прожили вместе два года.
В более поздних дневниковых записях Ольга Берггольц вспоминала о Корнилове с теплотой как о первом мужчине и отце первого ребёнка. Позже она боролась за его реабилитацию, добивалась публикации его первого посмертного сборника, написала предисловие к нему.
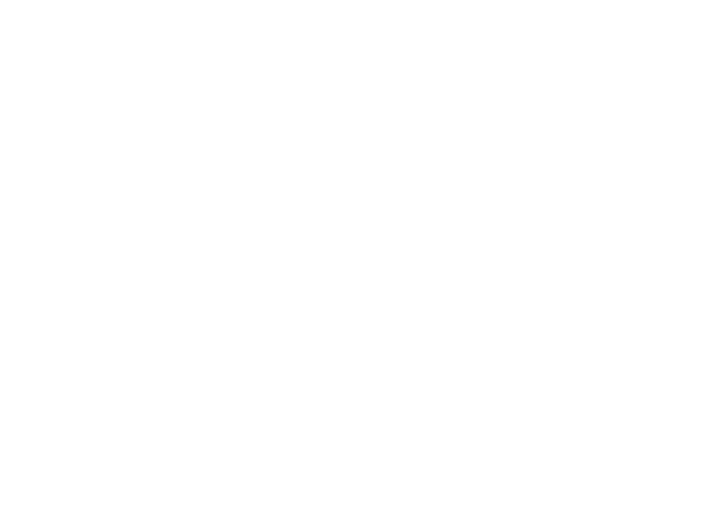
Ольга Берггольц и Борис Корнилов
Борису Корнилову
1
О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь...
Я так постарела, что ты не узнаешь,
а может, узнаешь? Скажи!
Не стану прощенья просить я,
ни клятвы
напрасной не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать,—
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем,—
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.
2
Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невою,
заставские бормочут соловьи...»
...Но годы шли все горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый и пропащий,—
пою другое,
плачу о другом...
А юные девчонки и мальчишки
они — о том же: сумерки, Нева...
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.
Первый муж, поэт Борис Корнилов, расстрелян. Второй, Николай Молчанов, умер от голода в блокаду. Арест и тюрьма. 171 день тюрьмы. Две дочери умерли еще до ареста. Ирине не было восьми лет, Майе — года. Третий ребенок, которого ждала Берггольц, не родился: его сгубила тюрьма. Как сумела она все это вынести?
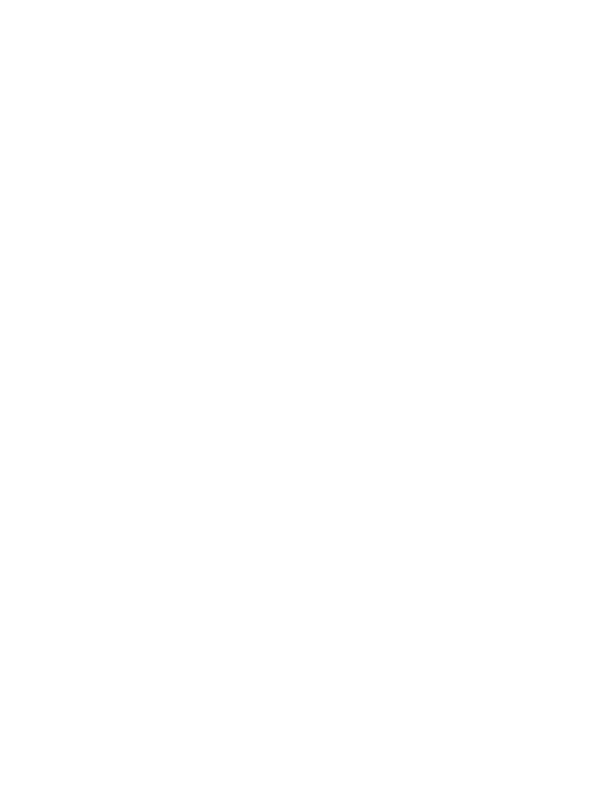
Николай Молчанов
* * *
Нет, судьба меня не обижала,
Щедро выдавала, что могла:
И в тюрьму ежовскую сажала,
И в психиатричку привела.
Провела меня через блокаду,
По смертям любимейших вела,
И мою последнюю отраду —
Радость материнства отняла.
Одарила всенародной славой, —
Вот чего, пожалуй, не отнять.
Ревности горючею отравой,
Сердцем, не умеющим солгать.
В скудости судьбу я упрекнуть не смею,
Только у людей бы на виду
Мне б стихами рассчитаться с нею,
Но и тут схитрила: не дадут.
В начале 1937 года меня обвинили в связи с врагом народа, арестовали, исключили из партии… Во второй половине 1937 года была полностью освобождена и реабилитирована. Вернулась в пустой наш дом (обе доченьки мои умерли еще до этой катастрофы)
"
3 июля 1939 года Ольга Берггольц была освобождена и полностью реабилитирована.
Из цикла "Родине"
Гнала меня и клеветала,
Детей и славу отняла,
А я не разлюбила – знала:
Ты – дикая. Ты – не со зла.
Служу и верю неизменно,
Угрюмей стала и сильней.
...Не знай, как велика надменность
Любви недрогнувшей моей.
* * *
Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.
Как мы любили горько, грубо,
Как обманулись мы любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.
Как в духоте бессонных камер
И дни, и ночи напролет
Без слез, разбитыми губами
Твердили «Родина», «Народ».
И находили оправданья
Жестокой матери своей,
На бесполезное страданье
Пославшей лучших сыновей
О дни позора и печали!
О, неужели даже мы
Тоски людской не исчерпали
В открытых копях Колымы!
А те, что вырвались случайно,
Осуждены еще страшней.
На малодушное молчанье,
На недоверие друзей.
И молча, только тайно плача,
Зачем-то жили мы опять,
Затем, что не могли иначе
Ни жить, ни плакать, ни дышать.
И ежедневно, ежечасно,
Трудясь, страшилися тюрьмы,
Но не было людей бесстрашней
И горделивее, чем мы!
Душевная рана наша, моя и Николая, зияла и болела нестерпимо. Мы ещё не успели понять что-либо, но и ощутить во всей мере свои утраты и свою боль, как грянула Великая Отечественная война, начался штурм и затем блокада Ленинграда
"
Я пробыла в городе на Неве всю блокаду. Николай умер от голода в 1941 году. То, что мы останемся в Ленинграде, как бы тяжело ни сложилась его судьба, — это мы решили твёрдо, с первых дней войны я должна была встретить испытание лицом к лицу. Я поняла: наступило моё время. Когда я смогу отдать Родине всё — свой труд, свою поэзию. Ведь жили же мы для чего-то все предшествующие годы
"
* * *
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.
Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена, -
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.
Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.
Он настал, наш час, и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему — одно.
Февральский дневник
VI
Я никогда героем не была.
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.
И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
не изменяла радости земной,
что, как роса, сияла эта радость,
угрюмо озаренная войной.
И если чем-нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда.
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.
О да, мы счастье страшное открыли, —
достойно не воспетое пока,
когда последней коркою делились,
последнею щепоткой табака,
когда вели полночные беседы
у бедного и дымного огня,
как будем жить, когда придет победа,
всю нашу жизнь по-новому ценя.
И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
как полдень жизни будешь вспоминать
дом на проспекте Красных Командиров,
где тлел огонь и дуло от окна.
Ты выпрямишься вновь, как нынче, молод.
Ликуя, плача, сердце позовет
и эту тьму, и голос мой, и холод,
и баррикаду около ворот.
Да здравствует, да царствует всегда
простая человеческая радость,
основа обороны и труда,
бессмертие и сила Ленинграда.
Да здравствует суровый и спокойный,
глядевший смерти в самое лицо,
удушливое вынесший кольцо
как Человек,
как Труженик,
как Воин.
Сестра моя, товарищ, друг и брат:
ведь это мы, крещенные блокадой.
Нас вместе называют — Ленинград;
и шар земной гордится Ленинградом.
Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце и стуже, в голоде, в печали
мы дышим завтрашним —
счастливым, щедрым днем.
Мы сами этот день завоевали.
И ночь ли будет, утро или вечер,
но в этот день мы встанем и пойдем
воительнице-армии навстречу
в освобожденном городе своем.
Мы выйдем без цветов,
в помятых касках,
в тяжелых ватниках,
в промерзших полумасках,
как равные — приветствуя войска.
И, крылья мечевидные расправив,
над нами встанет бронзовая слава,
держа венок в обугленных руках.
Ольгу Берггольц называли «блокадной Мадонной». Она была красива особой просвещенной красотой, которая несёт на себе печать духовности и самоотверженности. Ежедневно выступая по ленинградскому радио в разных жанрах, она поднимала боевой дух защитников героического города.
Февральский дневник
II
А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина.
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья:
на детских сапках, узеньких, смешных,
в кастрюльках воду голубую возят,
дрова и скарб, умерших и больных.
Так с декабря кочуют горожане, —
за много верст, в густой туманной мгле,
в глуши слепых обледеневших зданий
отыскивая угол потеплей.
Вот женщина ведет куда-то мужа:
седая полумаска на лице,
в руках бидончик — это суп на ужин… —
Свистят снаряды, свирепеет стужа.
Товарищи, мы в огненном кольце!
А девушка с лицом заиндевелым,
упрямо стиснув почерневший рот,
завернутое в одеяло тело
на Охтенское кладбище везет.
Везет, качаясь, — к вечеру добраться б…
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.
Скинь шапку, гражданин.
Провозят ленинградца.
погибшего на боевом посту.
Скрипят полозья в городе, скрипят…
Как многих нам уже не досчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
что слезы вымерзли у ленинградцев.
Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не дает.
Нам ненависть залогом жизни стала:
объединяет, греет и ведет.
О том, чтоб не прощала, не щадила,
чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
ко мне взывает братская могила
на охтенском, на правом берегу.
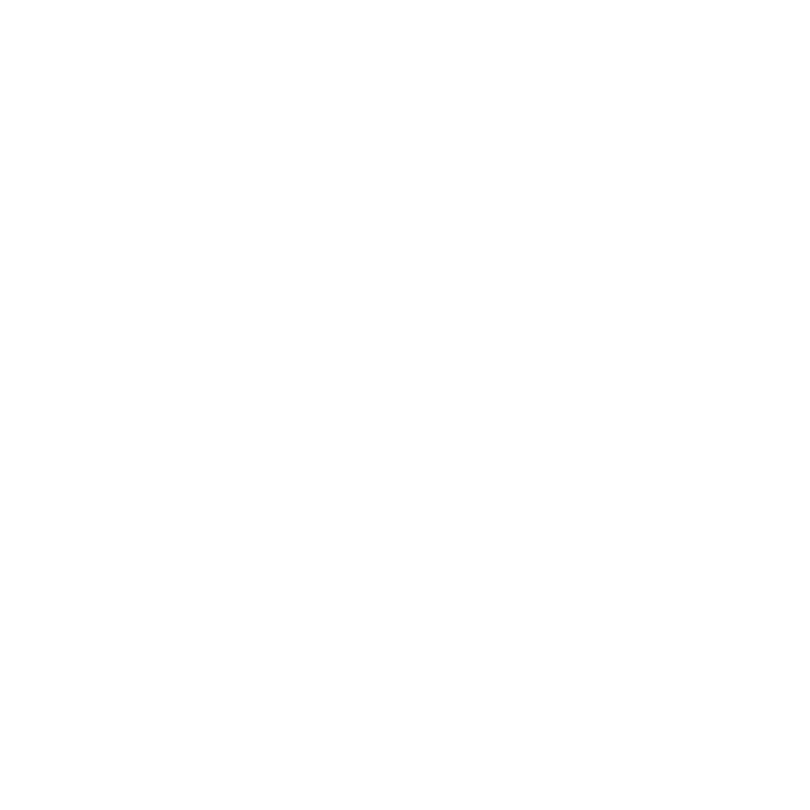
Абонентский громкоговоритель "Рекорд"
В блокадном Ленинграде радиовещание было единственной нитью, связывающей защитников города с большой землёй. По радио узнавали ленинградцы, что делается на фронтах, по радио страна узнавала, как живёт и борется Ленинград. Передачи проходили невзирая ни на что.
9 августа 1942 года состоялось исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича в осаждённом Ленинграде. Инициатором и организатором исполнения выступил главный дирижёр Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Ильич Элиасберг. Партитуру симфонии специальным рейсом доставил в город лётчик лейтенант Литвинов. За время блокады многие музыканты умерли от голода, способных держать инструменты осталось всего 15 человек. Музыкантов разыскивали и в городе, и на ближайших передовых.
Исполнение симфонии в блокадном Ленинграде
Симфония стала одним из главных духовных символов борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Она сплотила ленинградцев в самые трудные и сложные моменты и показала, что город продолжает жить и выживет несмотря ни на что.
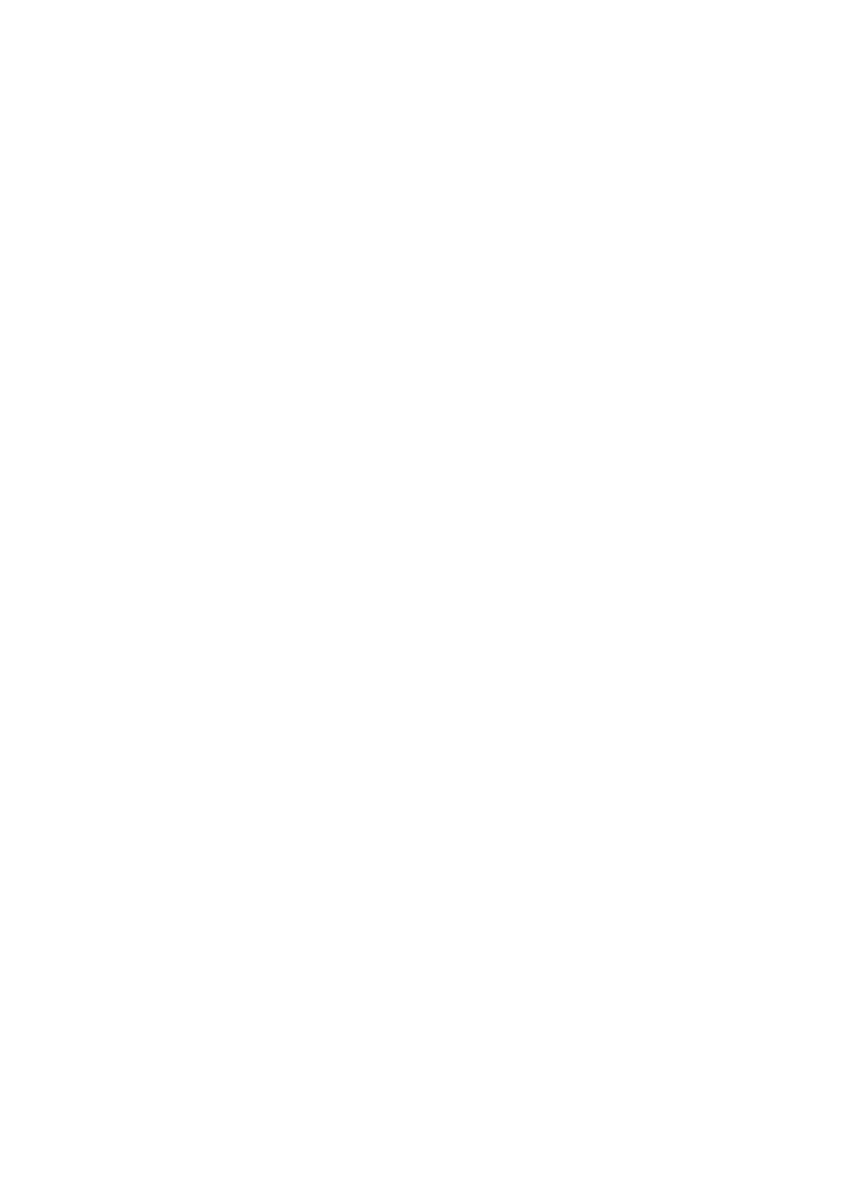
Дети в бомбоубежище во время налёта немецкой авиации
Даже если радио не говорило, а только стучал метроном, и то было легче: это означало, что город жив, что сердце его бьётся.
Враги думали, что после всех мук, которым они подвергли и ещё подвергают наш город, мы будем страшиться Ленинграда, но нам ли бояться тебя, родной город, закаливший нас, подаривший нам новые силы, новую дерзость, новую мудрость?
"
* * *
…Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна…
Кронштадский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.
Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою.
Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей!
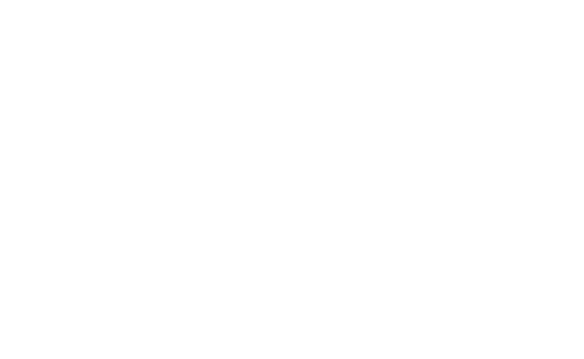
125 граммов хлеба
Карточная система на продукты была введена в Северной столице вскоре после начала войны.
С каждым днём в городе таяли запасы продовольствия, нормы сокращались. Рабочие и инженерно-технические работники получали в день всего по 250 граммов хлеба, а служащие, иждивенцы и дети — по 125 граммов. Муки в этом хлебе почти не было, его выпекали из отрубей, мякины, целлюлозы. Хлеб был единственным питание ленинградцев.
Истощённые голодом, измученные непрерывными бомбежками, обстрелами ленинградцы жили в неотапливаемых домах. В квартирах тускло чадили коптилки. Замёрзли водопроводы и канализация.
За водой для питья приходилось ходить на набережную Невы, спускаться на лёд и делать проруби, потом под обстрелом доставлять воду домой. В городе остановились трамваи, троллейбусы, автобусы.
Смерть входила во все дома. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибли от голода.
Жители блокадного Ленинграда идут на Неву за водой
Единственной транспортной магистралью, по которой во время блокады Ленинграда осуществлялось снабжение окружённой советской группировки войск и гражданского населения города оставалась «Дорога жизни" — пролегающая по Ладожскому озеру. В периоды навигации перевозки осуществлялись по воде, во время ледостава — по льду. Дорога работала с 12 сентября 1941 по март 1943 года.
Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой земли в осаждённый город с невероятными усилиями доставляли продукты и топливо.
Ленинградская поэма
III
…О, мы познали в декабре —
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех —
хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданьем он,
такой большой любовью братской
для нас отныне освящен,
наш хлеб насущный, ленинградский.
Подвергая город страшнейшим лишениям и пыткам, враг рассчитывал, что пробудит у нас самые низменные, животные инстинкты. Враг рассчитывал, что голодающие, мёрзнущие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать и, в конце концов, сдадут город. Ленинград выжрет самого себя. Но мы не только выдержали эти пытки — мы окрепли морально.
Взгляни себе в сердце, товарищ, посмотри пристальней на своих друзей и знакомых, и ты увидишь, что и ты, и твои друзья за трудный год лишений и блокады стали сердечней, человеколюбивее, проще. Вспомни хотя бы то, сколько раз ты сам делился последним куском с другим, и сколько раз делились с тобой, и как вовремя приходила эта дружеская поддержка. Конечно, были случаи и людской черствости, неблагодарности, равнодушия, но ведь не этим же жив Ленинград, не этим же держимся все мы!
"
В осаждённом городе работало 39 школ. Да, поверить трудно, но это факт — даже в жутких условиях блокадной жизни школьники учились.
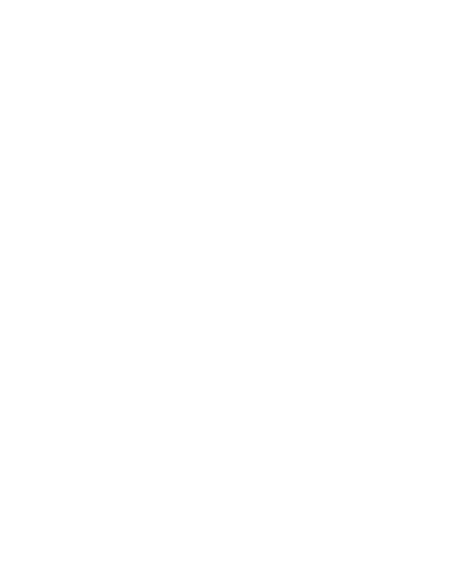
Урок в одной из школ блокадного Ленинграда
А разве не торжество жизни, что Публичная библиотека — одно из величайших книгохранилищ мира — работала в Ленинграде всю зиму, участвовала в обороне города, в защите основ цивилизации?
И город выстоял, выжил!
Советский народ услышал выступление Юрия Левитана по радио:
Третье письмо на Каму
…О дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
в сияющих слезах твое лицо.
Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
и не стыдимся слез своих: теплей
в сердцах у нас, бесслезных и упрямых,
не плакавших в прошедшем феврале.
Да будут слезы эти как молитва.
А на врагов — расплавленным свинцом
пускай падут они в минуты битвы
за все, за всех, задушенных кольцом.
За девочек, по-старчески печальных,
у булочных стоявших, у дверей,
за трупы их в пикейных одеяльцах,
за страшное молчанье матерей…
О, наша месть — она еще в начале, —
мы длинный счет врагам приберегли:
мы отомстим за все, о чем молчали,
за все, что скрыли
от Большой Земли!
Нет, мама, не сейчас, но в близкий вечер
я расскажу подробно, обо всем,
когда вернемся в ленинградский дом,
когда я выбегу тебе навстречу.
О, как мы встретим наших ленинградцев,
не забывавших колыбель свою!
Нам только надо в городе прибраться:
он пострадал, он потемнел в бою.
Но мы залечим все его увечья,
следы ожогов злых, пороховых.
Мы в новых платьях выйдем к вам
навстречу,
к «стреле», пришедшей прямо из Москвы.
Я не мечтаю — это так и будет,
минута долгожданная близка,
но тяжкий рев разгневанных орудий
еще мы слышим: мы в бою пока.
Еще не до конца снята блокада…
Родная, до свидания!
Иду
к обычному и грозному труду
во имя новой жизни Ленинграда.
Мы знаем, нам ещё многое надо пережить, многое выдержать. Мы выдержим всё. Уж теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу
"
«Здесь оставлено сердце моё» —
так могла бы она сказать о каждой строчке написанного в стихах, прозе, дневниках, письмах друзьям и родным.
Ольга Берггольц скончалась 13 ноября 1975 года. Похоронена на Литераторских мостках Волкова кладбища
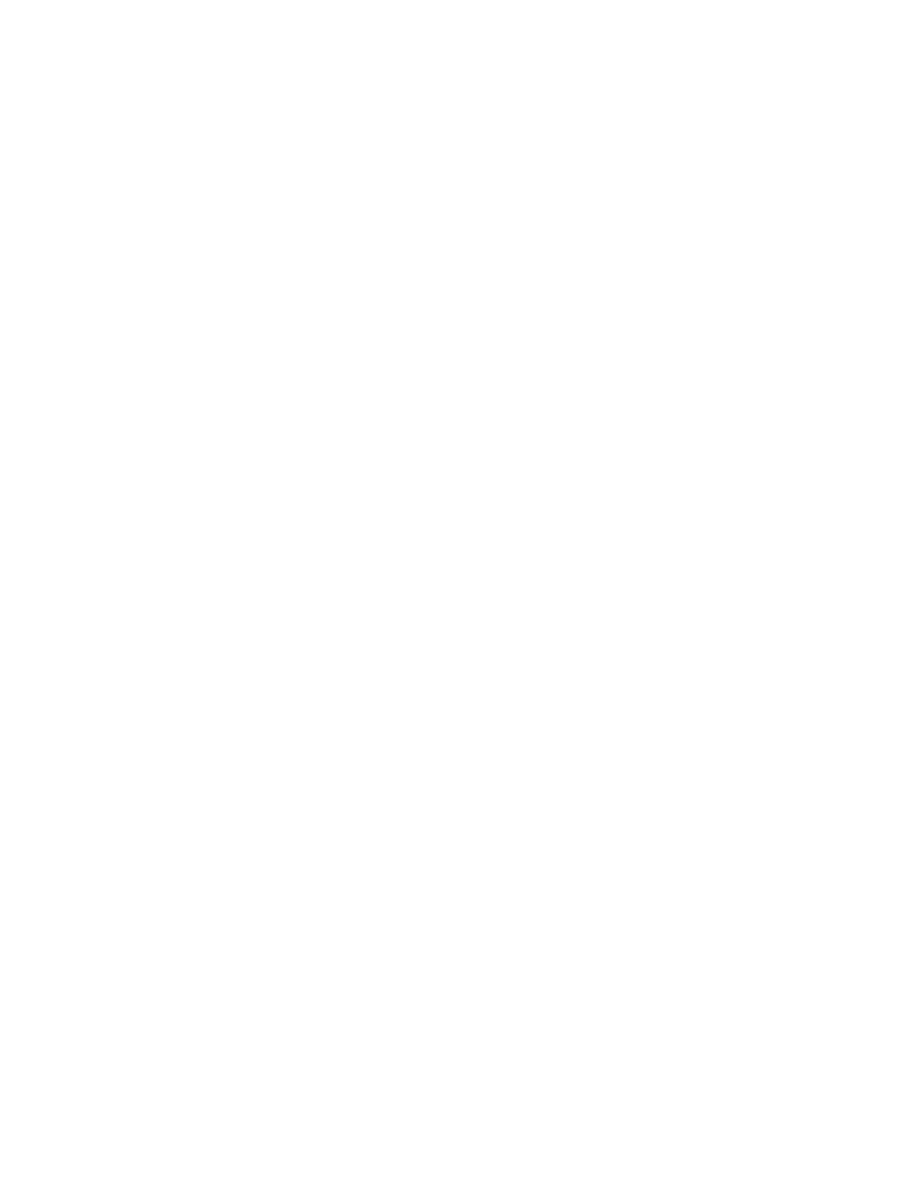
Памятник Ольге Берггольц на Литераторских мостках
А ведь хотела она лежать на Пискарёвском — рядом с теми, с кем жила и кого поддерживала в блокадном городе. Несмотря на прижизненную просьбу писательницы похоронить её на Пискарёвском мемориальном кладбище, где высечены в камне её слова «Никто не забыт и ничто не забыто», «глава» Ленинграда Григорий Романов отказал писательнице. Как сказал поэт Глеб Горбовский в своём поминальном стихотворении, посвящённом Ольге Берггольц:
«И хоть длинна командировка, Берггольц лежит на Пискарёвке — там, где душа её лежит».
Да, её душа — на Пискарёвском кладбище, рядом с десятками тысяч сограждан, героев и мучеников блокады, там, где высечены её бессмертные слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». Эти слова теперь и о ней, музе блокадного Ленинграда. Она стала частью истории, стала легендой, а для тех, кто долго и близко знал и любил её, для всех, кому её поэзия помогала выжить и победить, она осталась не бронзовой, а живой. Мужественной и незащищённой. Гордой и нуждающейся в ласке, тепле. Властной и легкоранимой.
Вечная память защитникам Родины!
«Помните, верьте, живите, творите, любите», — это наказ ленинградской поэтессы потомкам победителей…
и юбилею Ольги Фёдоровны Берггольц
посвящается
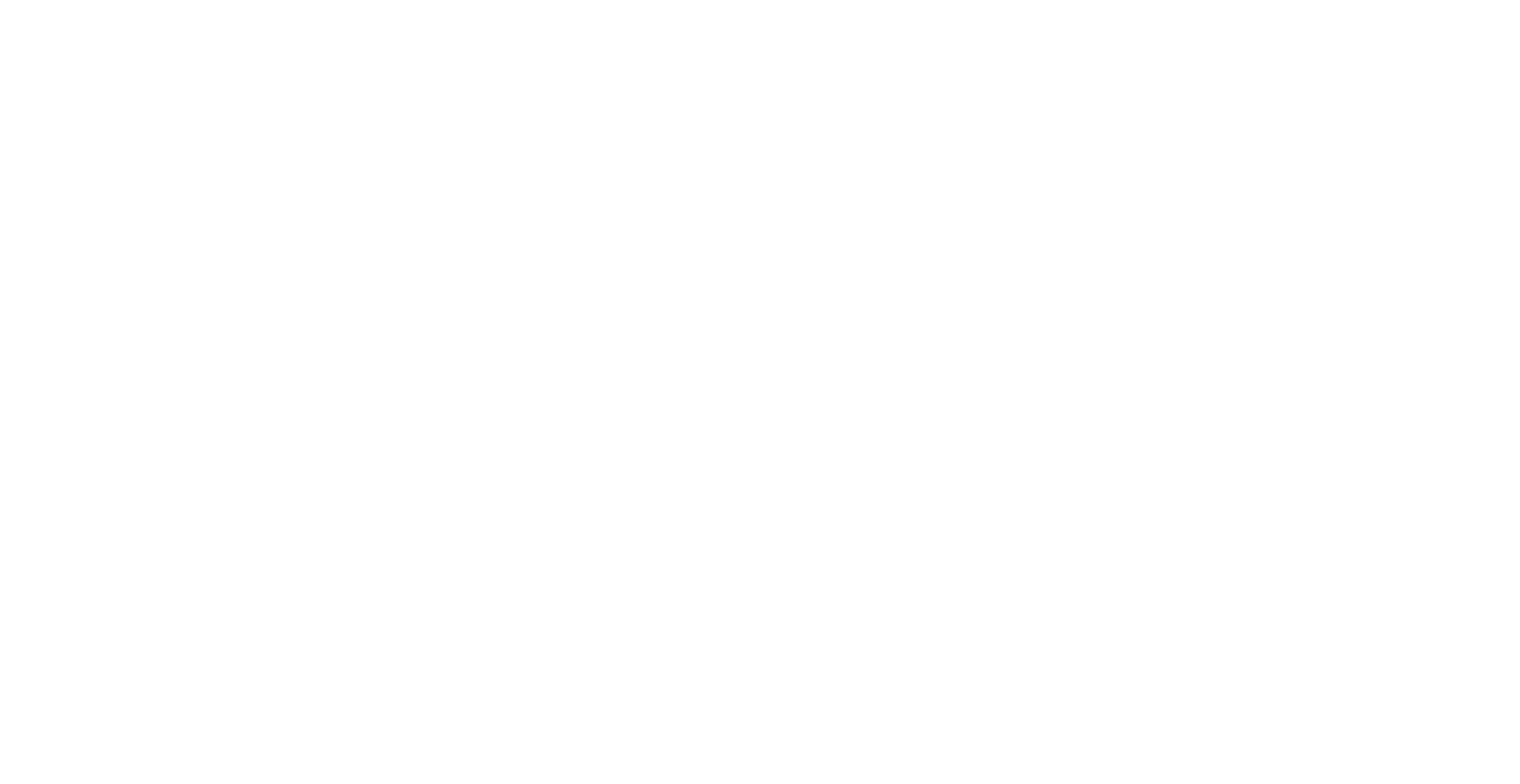
Жизнь и творчество замечательной ленинградской поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц тесно вязано с этим периодом в истории нашей страны, с периодом его самых тяжелых испытаний, с ленинградской блокадой.
Расцвет её творчества связан именно с периодом блокады. Она начала писать раньше, но по-настоящему большим поэтом стала в тот незабываемый период. Ситуация, казалось, был самой неподходящей для поэзии, но это было не так. Её стихи часто звучали по радио в блокадном городе, проникая в душу каждого бойца, каждого жителя.
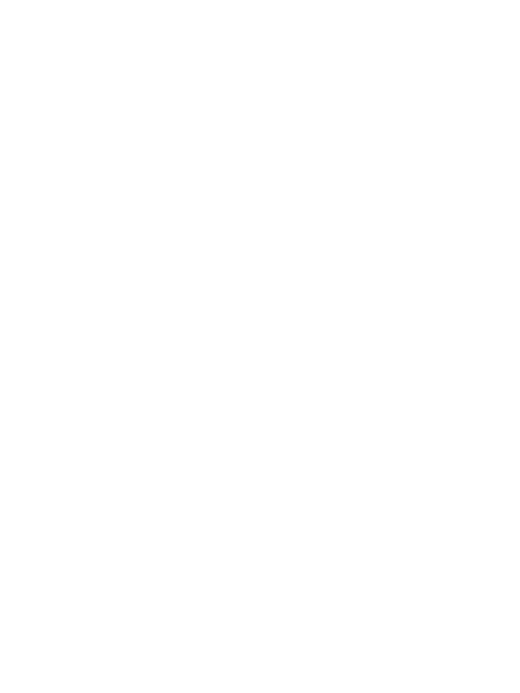
Ольга Фёдоровна Берггольц
Жизнь моя, как и большинства моих современников, счастливо сложилась, что все главные даты её, все, даже самые интимные события, — совпадают с главными событиями жизни нашей страны и народа, и одно переходит в другое. Я родилась в Петербурге за Невской заставой 16 мая 1910 года, именно там начала бить маленькая струйка, которая называется моей жизнью
"
Семья Берггольц была многочиленной и проживала в двухэтажном деревянном доме за Невской заставой, вблизи Шлиссельбургского тракта. Фамилия у Ольги латышская — от деда со стороны отца. Другой дед, со стороны матери, был родом из рязанской деревни.
Отец, Фёдор Христофорович Берггольц, окончил Дерптский университет, служил военно-полевым хирургом. Был он остер не только на скальпель, но и на язык, обладал молниеносным чувством юмора, а мама, Мария Тимофеевна Грустилина, вполне оправдывая свою фамилию, находила утешение в поэзии и детям передала любовь к ней.
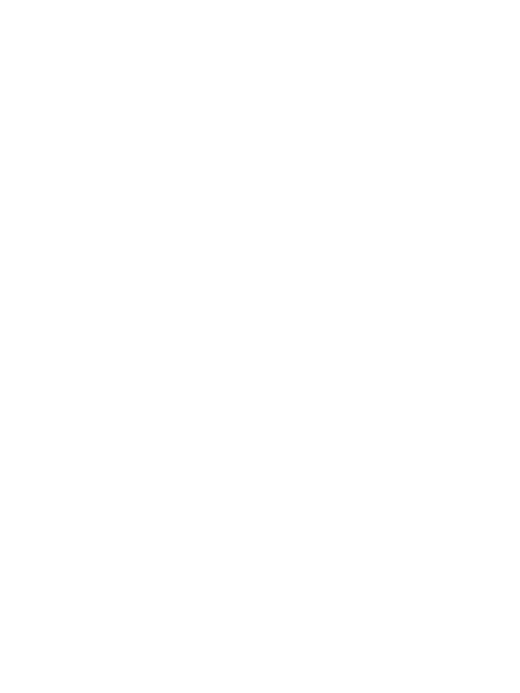
Родители О.Ф. Берггольц
Невская застава, Невская застава! Ночи, полные багровых зарев с Чугунного завода. Первая любовь моя. И то, что непередаваемо и невосполнимо… Зачем я не осталась там?
Заветной мечтой моей матери было, чтоб мы — я и моя сестра, — вырастая, становились все больше похожими на «тургеневских» девушек. Нет, «тургеневской» девушки из меня решительно не получилось
"
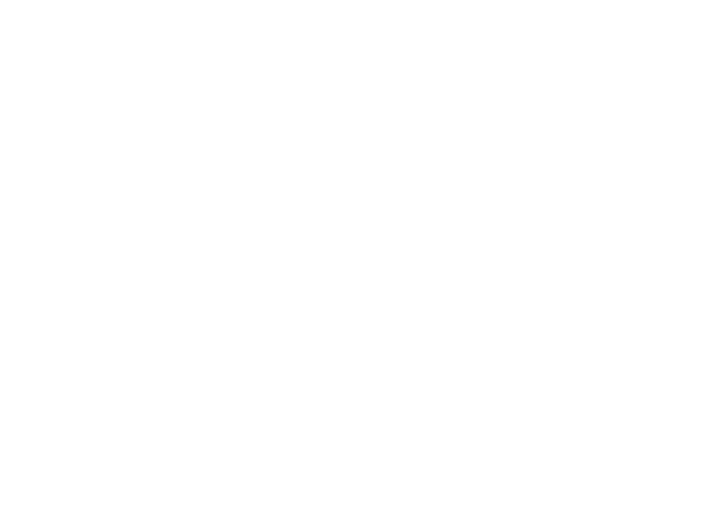
Ольга Берггольц и Борис Корнилов
Ольга Берггольц и Борис Корнилов — поэты, участники группы «Смена» вместе учились на Высших государственных курсах искусствоведения при Институте истории искусств. В 1928 году Корнилов и Берггольц вступили в брак, котором родилась дочь Ирина, и который оказался недолговечным — они прожили вместе два года.
В более поздних дневниковых записях Ольга Берггольц вспоминала о Корнилове с теплотой как о первом мужчине и отце первого ребёнка. Позже она боролась за его реабилитацию, добивалась публикации его первого посмертного сборника, написала предисловие к нему.
Борису Корнилову
1
О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь...
Я так постарела, что ты не узнаешь,
а может, узнаешь? Скажи!
Не стану прощенья просить я,
ни клятвы
напрасной не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать,—
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем,—
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.
2
Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невою,
заставские бормочут соловьи...»
...Но годы шли все горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый и пропащий,—
пою другое,
плачу о другом...
А юные девчонки и мальчишки
они — о том же: сумерки, Нева...
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.
Первый муж, поэт Борис Корнилов, расстрелян. Второй, Николай Молчанов, умер от голода в блокаду. Арест и тюрьма. 171 день тюрьмы. Две дочери умерли еще до ареста. Ирине не было восьми лет, Майе — года. Третий ребенок, которого ждала Берггольц, не родился: его сгубила тюрьма. Как сумела она все это вынести?
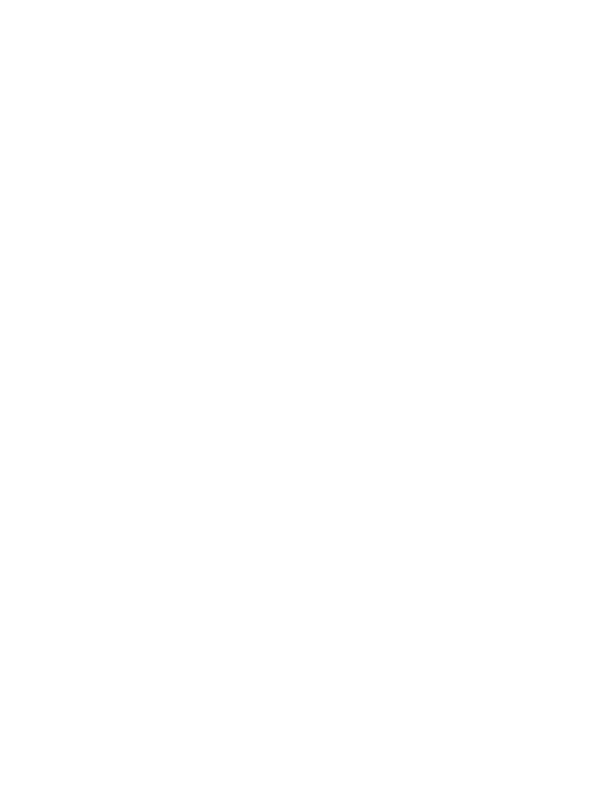
Николай Молчанов
* * *
Нет, судьба меня не обижала,
Щедро выдавала, что могла:
И в тюрьму ежовскую сажала,
И в психиатричку привела.
Провела меня через блокаду,
По смертям любимейших вела,
И мою последнюю отраду —
Радость материнства отняла.
Одарила всенародной славой, —
Вот чего, пожалуй, не отнять.
Ревности горючею отравой,
Сердцем, не умеющим солгать.
В скудости судьбу я упрекнуть не смею,
Только у людей бы на виду
Мне б стихами рассчитаться с нею,
Но и тут схитрила: не дадут.
В начале 1937 года меня обвинили в связи с врагом народа, арестовали, исключили из партии… Во второй половине 1937 года была полностью освобождена и реабилитирована. Вернулась в пустой наш дом (обе доченьки мои умерли еще до этой катастрофы)
"
3 июля 1939 года Ольга Берггольц была освобождена и полностью реабилитирована.
Из цикла "Родине"
Гнала меня и клеветала,
Детей и славу отняла,
А я не разлюбила – знала:
Ты – дикая. Ты – не со зла.
Служу и верю неизменно,
Угрюмей стала и сильней.
...Не знай, как велика надменность
Любви недрогнувшей моей.
* * *
Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.
Как мы любили горько, грубо,
Как обманулись мы любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.
Как в духоте бессонных камер
И дни, и ночи напролет
Без слез, разбитыми губами
Твердили «Родина», «Народ».
И находили оправданья
Жестокой матери своей,
На бесполезное страданье
Пославшей лучших сыновей
О дни позора и печали!
О, неужели даже мы
Тоски людской не исчерпали
В открытых копях Колымы!
А те, что вырвались случайно,
Осуждены еще страшней.
На малодушное молчанье,
На недоверие друзей.
И молча, только тайно плача,
Зачем-то жили мы опять,
Затем, что не могли иначе
Ни жить, ни плакать, ни дышать.
И ежедневно, ежечасно,
Трудясь, страшилися тюрьмы,
Но не было людей бесстрашней
И горделивее, чем мы!
Душевная рана наша, моя и Николая, зияла и болела нестерпимо. Мы ещё не успели понять что-либо, но и ощутить во всей мере свои утраты и свою боль, как грянула Великая Отечественная война, начался штурм и затем блокада Ленинграда
"
Я пробыла в городе на Неве всю блокаду. Николай умер от голода в 1941 году. То, что мы останемся в Ленинграде, как бы тяжело ни сложилась его судьба, — это мы решили твёрдо, с первых дней войны я должна была встретить испытание лицом к лицу. Я поняла: наступило моё время. Когда я смогу отдать Родине всё — свой труд, свою поэзию. Ведь жили же мы для чего-то все предшествующие годы
"
* * *
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.
Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена, -
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.
Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.
Он настал, наш час, и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему — одно.
Февральский дневник
VI
Я никогда героем не была.
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.
И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
не изменяла радости земной,
что, как роса, сияла эта радость,
угрюмо озаренная войной.
И если чем-нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда.
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.
О да, мы счастье страшное открыли, —
достойно не воспетое пока,
когда последней коркою делились,
последнею щепоткой табака,
когда вели полночные беседы
у бедного и дымного огня,
как будем жить, когда придет победа,
всю нашу жизнь по-новому ценя.
И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
как полдень жизни будешь вспоминать
дом на проспекте Красных Командиров,
где тлел огонь и дуло от окна.
Ты выпрямишься вновь, как нынче, молод.
Ликуя, плача, сердце позовет
и эту тьму, и голос мой, и холод,
и баррикаду около ворот.
Да здравствует, да царствует всегда
простая человеческая радость,
основа обороны и труда,
бессмертие и сила Ленинграда.
Да здравствует суровый и спокойный,
глядевший смерти в самое лицо,
удушливое вынесший кольцо
как Человек,
как Труженик,
как Воин.
Сестра моя, товарищ, друг и брат:
ведь это мы, крещенные блокадой.
Нас вместе называют — Ленинград;
и шар земной гордится Ленинградом.
Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце и стуже, в голоде, в печали
мы дышим завтрашним —
счастливым, щедрым днем.
Мы сами этот день завоевали.
И ночь ли будет, утро или вечер,
но в этот день мы встанем и пойдем
воительнице-армии навстречу
в освобожденном городе своем.
Мы выйдем без цветов,
в помятых касках,
в тяжелых ватниках,
в промерзших полумасках,
как равные — приветствуя войска.
И, крылья мечевидные расправив,
над нами встанет бронзовая слава,
держа венок в обугленных руках.
Ольгу Берггольц называли «блокадной Мадонной». Она была красива особой просвещенной красотой, которая несёт на себе печать духовности и самоотверженности. Ежедневно выступая по ленинградскому радио в разных жанрах, она поднимала боевой дух защитников героического города.
Февральский дневник
II
А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина.
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья:
на детских сапках, узеньких, смешных,
в кастрюльках воду голубую возят,
дрова и скарб, умерших и больных.
Так с декабря кочуют горожане, —
за много верст, в густой туманной мгле,
в глуши слепых обледеневших зданий
отыскивая угол потеплей.
Вот женщина ведет куда-то мужа:
седая полумаска на лице,
в руках бидончик — это суп на ужин… —
Свистят снаряды, свирепеет стужа.
Товарищи, мы в огненном кольце!
А девушка с лицом заиндевелым,
упрямо стиснув почерневший рот,
завернутое в одеяло тело
на Охтенское кладбище везет.
Везет, качаясь, — к вечеру добраться б…
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.
Скинь шапку, гражданин.
Провозят ленинградца.
погибшего на боевом посту.
Скрипят полозья в городе, скрипят…
Как многих нам уже не досчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
что слезы вымерзли у ленинградцев.
Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не дает.
Нам ненависть залогом жизни стала:
объединяет, греет и ведет.
О том, чтоб не прощала, не щадила,
чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
ко мне взывает братская могила
на охтенском, на правом берегу.
В блокадном Ленинграде радиовещание было единственной нитью, связывающей защитников города с большой землёй. По радио узнавали ленинградцы, что делается на фронтах, по радио страна узнавала, как живёт и борется Ленинград. Передачи проходили невзирая ни на что.
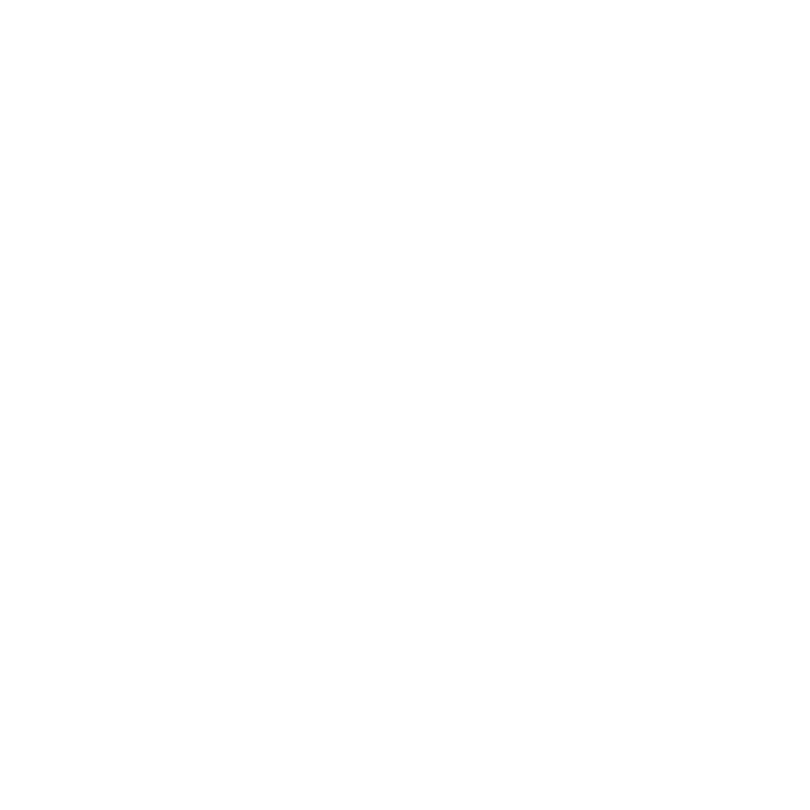
Абонентский громкоговоритель "Рекорд"
9 августа 1942 года состоялось исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича в осаждённом Ленинграде. Инициатором и организатором исполнения выступил главный дирижёр Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Ильич Элиасберг. Партитуру симфонии специальным рейсом доставил в город лётчик лейтенант Литвинов. За время блокады многие музыканты умерли от голода, способных держать инструменты осталось всего 15 человек. Музыкантов разыскивали и в городе, и на ближайших передовых.
Симфония стала одним из главных духовных символов борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Она сплотила ленинградцев в самые трудные и сложные моменты и показала, что город продолжает жить и выживет несмотря ни на что.
Д. Шостакович исполняет "Седьмую симфонию"
Даже если радио не говорило, а только стучал метроном, и то было легче: это означало, что город жив, что сердце его бьётся.
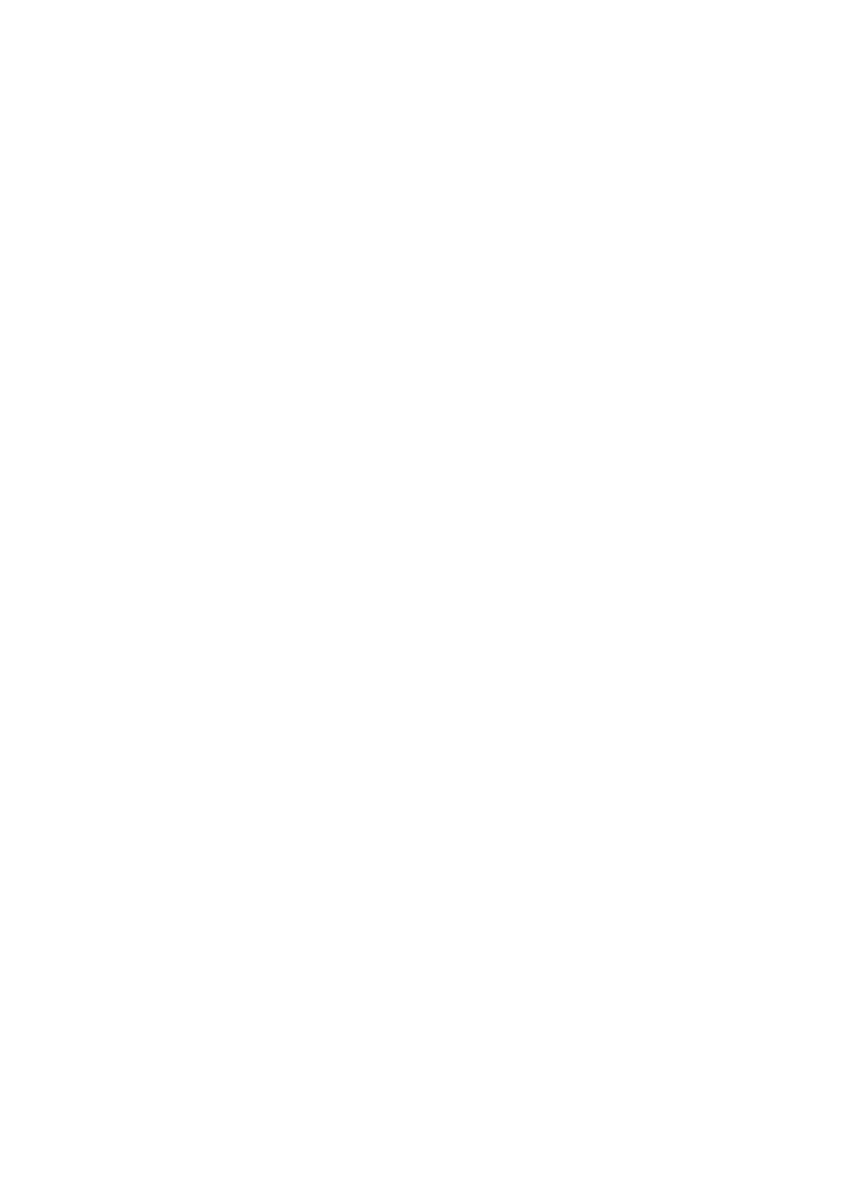
Дети в бомбоубежище во время налёта немецкой авиации
Враги думали, что после всех мук, которым они подвергли и ещё подвергают наш город, мы будем страшиться Ленинграда, но нам ли бояться тебя, родной город, закаливший нас, подаривший нам новые силы, новую дерзость, новую мудрость?
"
Читает Ольга Берггольц
* * *
…Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна…
Кронштадский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.
Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою.
Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей!
Карточная система на продукты была введена в Северной столице вскоре после начала войны.
С каждым днём в городе таяли запасы продовольствия, нормы сокращались. Рабочие и инженерно-технические работники получали в день всего по 250 граммов хлеба, а служащие, иждивенцы и дети — по 125 граммов. Муки в этом хлебе почти не было, его выпекали из отрубей, мякины, целлюлозы. Хлеб был единственным питание ленинградцев.
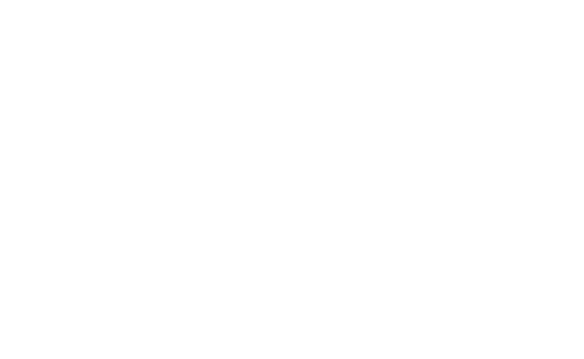
125 граммов хлеба
Истощённые голодом, измученные непрерывными бомбежками, обстрелами ленинградцы жили в неотапливаемых домах. В квартирах тускло чадили коптилки. Замёрзли водопроводы и канализация.
За водой для питья приходилось ходить на набережную Невы, спускаться на лёд и делать проруби, потом под обстрелом доставлять воду домой. В городе остановились трамваи, троллейбусы, автобусы.
Смерть входила во все дома. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибли от голода.
Единственной транспортной магистралью, по которой во время блокады Ленинграда осуществлялось снабжение окружённой советской группировки войск и гражданского населения города оставалась «Дорога жизни" — пролегающая по Ладожскому озеру. В периоды навигации перевозки осуществлялись по воде, во время ледостава — по льду. Дорога работала с 12 сентября 1941 по март 1943 года.
Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой земли в осаждённый город с невероятными усилиями доставляли продукты и топливо.
Ленинградская поэма
III
…О, мы познали в декабре —
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех —
хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданьем он,
такой большой любовью братской
для нас отныне освящен,
наш хлеб насущный, ленинградский.
Подвергая город страшнейшим лишениям и пыткам, враг рассчитывал, что пробудит у нас самые низменные, животные инстинкты. Враг рассчитывал, что голодающие, мёрзнущие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать и, в конце концов, сдадут город. Ленинград выжрет самого себя. Но мы не только выдержали эти пытки — мы окрепли морально.
Взгляни себе в сердце, товарищ, посмотри пристальней на своих друзей и знакомых, и ты увидишь, что и ты, и твои друзья за трудный год лишений и блокады стали сердечней, человеколюбивее, проще. Вспомни хотя бы то, сколько раз ты сам делился последним куском с другим, и сколько раз делились с тобой, и как вовремя приходила эта дружеская поддержка. Конечно, были случаи и людской черствости, неблагодарности, равнодушия, но ведь не этим же жив Ленинград, не этим же держимся все мы!
"
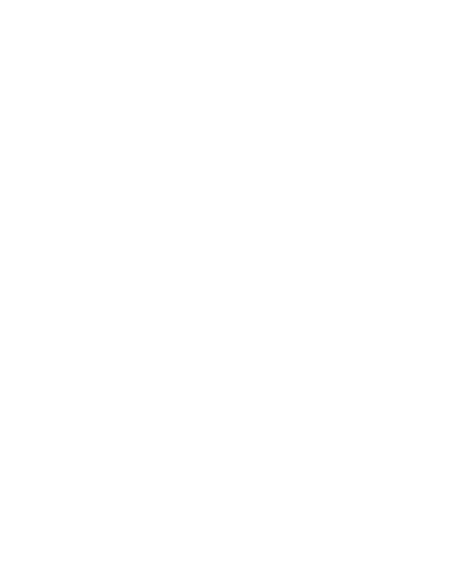
Урок в одной из школ блокадного Ленинграда
В осаждённом городе работало 39 школ. Да, поверить трудно, но это факт — даже в жутких условиях блокадной жизни школьники учились.
А разве не торжество жизни, что Публичная библиотека — одно из величайших книгохранилищ мира — работала в Ленинграде всю зиму, участвовала в обороне города, в защите основ цивилизации?
И город выстоял, выжил!
Советский народ услышал выступление Юрия Левитана по радио:
Третье письмо на Каму
…О дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
в сияющих слезах твое лицо.
Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
и не стыдимся слез своих: теплей
в сердцах у нас, бесслезных и упрямых,
не плакавших в прошедшем феврале.
Да будут слезы эти как молитва.
А на врагов — расплавленным свинцом
пускай падут они в минуты битвы
за все, за всех, задушенных кольцом.
За девочек, по-старчески печальных,
у булочных стоявших, у дверей,
за трупы их в пикейных одеяльцах,
за страшное молчанье матерей…
О, наша месть — она еще в начале, —
мы длинный счет врагам приберегли:
мы отомстим за все, о чем молчали,
за все, что скрыли
от Большой Земли!
Нет, мама, не сейчас, но в близкий вечер
я расскажу подробно, обо всем,
когда вернемся в ленинградский дом,
когда я выбегу тебе навстречу.
О, как мы встретим наших ленинградцев,
не забывавших колыбель свою!
Нам только надо в городе прибраться:
он пострадал, он потемнел в бою.
Но мы залечим все его увечья,
следы ожогов злых, пороховых.
Мы в новых платьях выйдем к вам
навстречу,
к «стреле», пришедшей прямо из Москвы.
Я не мечтаю — это так и будет,
минута долгожданная близка,
но тяжкий рев разгневанных орудий
еще мы слышим: мы в бою пока.
Еще не до конца снята блокада…
Родная, до свидания!
Иду
к обычному и грозному труду
во имя новой жизни Ленинграда.
Мы знаем, нам ещё многое надо пережить, многое выдержать. Мы выдержим всё. Уж теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу
"
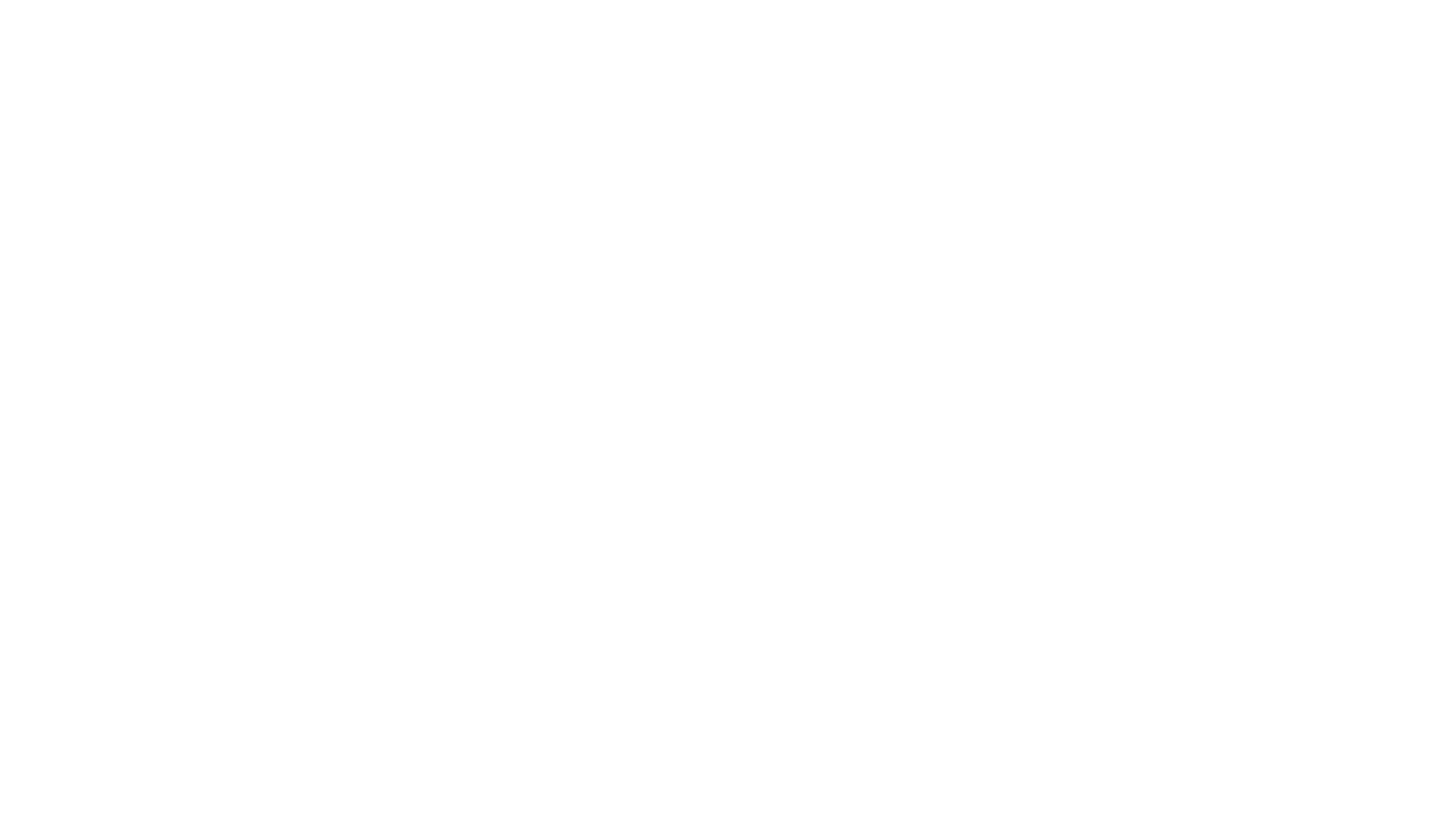
«Здесь оставлено сердце моё» —
так могла бы она сказать о каждой строчке написанного в стихах, прозе, дневниках, письмах друзьям и родным.
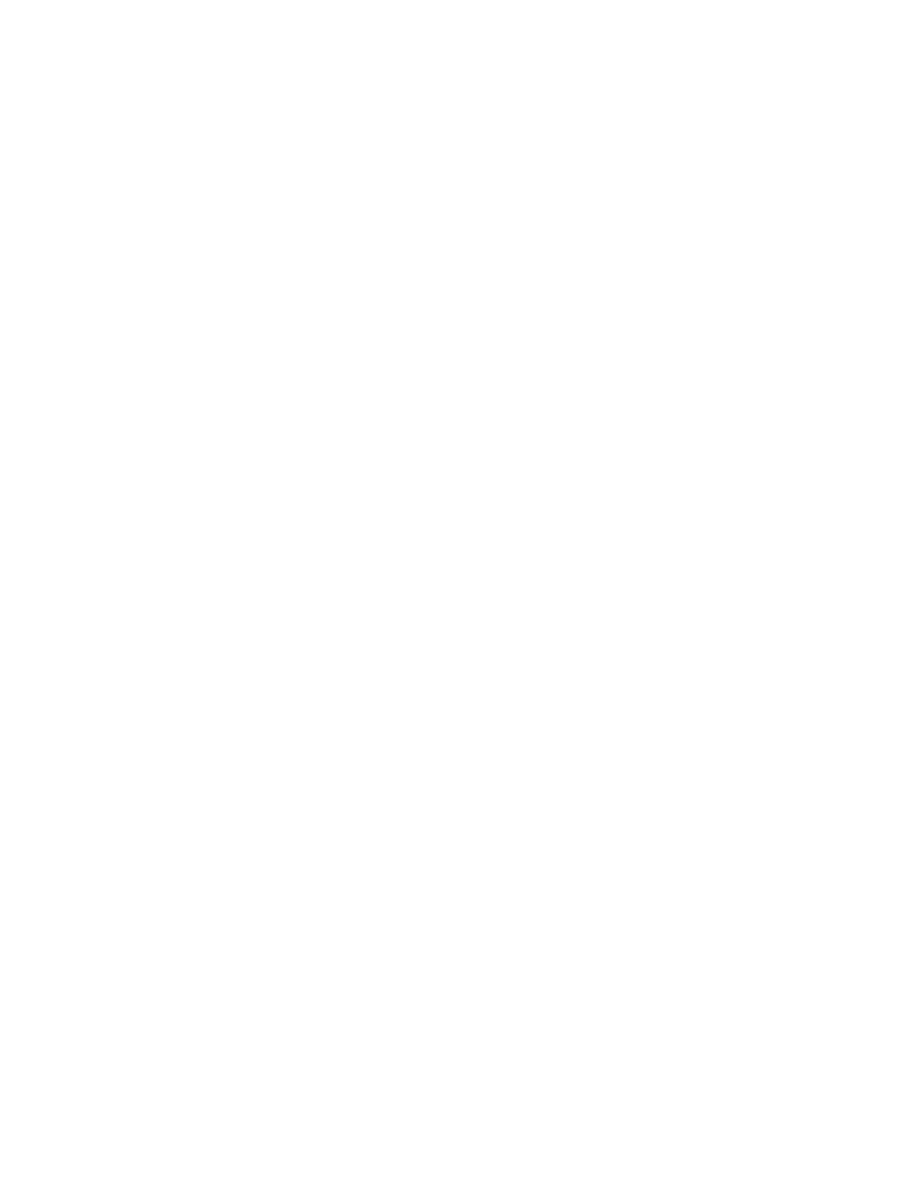
Памятник Ольге Берггольц на Литераторских мостках
Ольга Берггольц скончалась 13 ноября 1975 года. Похоронена на Литераторских мостках Волкова кладбища
А ведь хотела она лежать на Пискарёвском — рядом с теми, с кем жила и кого поддерживала в блокадном городе. Несмотря на прижизненную просьбу писательницы похоронить её на Пискарёвском мемориальном кладбище, где высечены в камне её слова «Никто не забыт и ничто не забыто», «глава» Ленинграда Григорий Романов отказал писательнице. Как сказал поэт Глеб Горбовский в своём поминальном стихотворении, посвящённом Ольге Берггольц:
«И хоть длинна командировка, Берггольц лежит на Пискарёвке — там, где душа её лежит».
Да, её душа — на Пискарёвском кладбище, рядом с десятками тысяч сограждан, героев и мучеников блокады, там, где высечены её бессмертные слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». Эти слова теперь и о ней, музе блокадного Ленинграда. Она стала частью истории, стала легендой, а для тех, кто долго и близко знал и любил её, для всех, кому её поэзия помогала выжить и победить, она осталась не бронзовой, а живой. Мужественной и незащищённой. Гордой и нуждающейся в ласке, тепле. Властной и легкоранимой.
Вечная память защитникам Родины!
«Помните, верьте, живите, творите, любите», — это наказ ленинградской поэтессы потомкам победителей…


